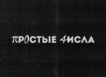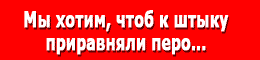«Это жизнь». Мать
Лариса Адамова
Продолжаем публикацию книги художественных очерков «Это – жизнь», изданной в 1964 году. Автор – известный советский журналист, спецкор газеты «Правда» Елена Костноненко.
Главная тема книги – становление характера, морали советского человека – творца социалистического общества, активного строителя коммунизма.
За успешную работу в печати Елена Кононенко награждена орденом Ленина и орденом Великой Отечественной войны 1-й степени.
Мы узнали случайно о том, что Дима лежит в госпитале. Нам сказала об этом Никифоровна, которая чинит белье для раненых.
Дима тяжело искалечен. У него нет рук, сильно повреждены лицевые кости, и лицо стало неузнаваемым. Даже удивительно, что Дима выжил. Доктор говорит, что у него железный организм. Это правда. Димка старше нас. В школе он считался первым силачом. А какой он был красивый, ладный! Дело прошлое, мы все завидовали Диме, не было девочки, которая бы не заглядывалась на него. Даже Стелла, самая гордая девочка из девятого класса, которую мы все боготворили, была влюблена в Димку, это факт.
Сейчас мы учимся в десятом классе. Дима ушел на войну добровольцем, когда мы были в девятом. Мы с гордостью читали вслух его письма с фронта: за отвагу его представили к награде. Если бы не эта беда с ним, он непременно стал бы Героем Советского Союза. Но вот так случилось. Война без жертв не бывает. Скоро нам призываться, и мы отомстим, конечно, врагу за все Димкины раны. Я первый буду бить фашистов беспощадно.
Как только Никифоровна рассказала нам все о Димке, мы немедля помчались к нему в госпиталь. Никифоровна кричала нам вслед: «Постойте! Погодите! Куда вы! Димка не захочет вас видеть, даже мать ничего не знает…» Но мы все же помчались в госпиталь. Стелла тоже пошла с нами.
Доктор нас не пустил к Диме.
— Нет, молодые люди,— сказал он, внимательно разглядывая наши взволнованные лица,— я не могу вас пустить к вашему товарищу. Я сначала должен подготовить его к этому свиданию. И вообще надо все хорошо обдумать. Я не уверен, сумеете ли вы отнестись к теперешнему Диме Устинову так, как относились раньше…
И доктор рассказал нам то, что мы уже узнали от Никифоровны.
— Это мужественный юноша, дети мои, — сказал доктор, протирая очки платком. — Я успел его полюбить.
— Какое же это мужество?! — горько шептала Стелла.— Какое же это мужество, если он боится встретиться с нами и, не повидав никого, хочет уехать в инвалидный дом!
— Он не за себя боится,— возразил доктор,— он за вас боится…
— Ну, так я покажу ему, как сомневаться в мужестве друга! — с обидой вскричал Пашка.— Ведите меня сейчас же, доктор, к нему, я не посмотрю, что он инвалид, я его так обругаю, я…
Пашка не выдержал и вдруг всплакнул, отвернувшись к окну. Пашкины слезы тронули старого доктора.
— Хорошо,— кивнул он седой головой,— я вам помогу. Я постараюсь убедить Диму. А пока прощайте. Приносите завтра письма, а там видно будет…
Мы поблагодарили доктора и вышли из госпиталя. Мы сразу же стали писать письма Димке. Не сговариваясь, все написали ему, что он нам теперь еще дороже, чем был, и требовали встречи.
Каждый из нас притащил из дома что смог: лепешки, сахар, молоко,— а Стелла принесла цветы. В этот же вечер мы отнесли все это в госпиталь.
Утром снова отправились к Диме. День был на редкость теплый, и мы весело шагали по залитым весенним солнцем улицам, переполненные любовью к товарищу.
— Пожалуйте в палату,— сказала нам санитарка Марья Антоновна.— Доктор там и приказал вас провести.
— Всех? — тревожно спросила Стелла.
— Всех,— улыбнулась санитарка.
— Ну, как он, нянечка? — волнуясь, расспрашивали мы Марью Антоновну, пока она раздавала нам халаты.— Как он слушал наши письма? Что сказал?
— Смирился, — растроганно ответила Марья Антоновна и концами косынки вытерла глаза.— Сначала — нипочем, а потом смирился… Слова ваши, видать, до нутра его дошли, просветлел весь… Прихожу я потом к нему, а он зеркало просит. «Нянечка,— говорит,— поднеси ты мне зеркало к лицу, хочу я посмотреть на себя…» А я ему и говорю: «К чему тебе, голубчик, на себя смотреть?..» «Да ведь страшен я очень, нянечка, испугаются они, не узнают, как ты думаешь, нянечка?» А я ему говорю: «Сердце, сердце узнает, с лица-то не чай пить, товарищ ты им…» И ведь что вы думаете, после записок ваших согласился сказать матери. Скрывался ведь он от матери-то, а тут велел допустить… Пошли за ней…
— Неужели пошли?! — с сожалением воскликнула Стелла.— Лучше бы мне пойти подготовить ее…
Дима лежал в палате один. Около него сидел доктор.
Впереди шел Пашка. За ним — гурьбой все мы. Позади всех — Стелла.
Мы подошли к белой постели. Крик горечи и ужаса чуть было не вырвался из наших уст. Мы не узнали Диму. Нет, не могу я передать наше состояние. Все мое существо сковала страшная тоска, чувство жалости, и имеете с тем в сердце с небывалой силой заклокотала июба к гитлеровцам, которые так изувечили, так изуродовали нашего Диму.
На секунду бросилось в глаза растерянное лицо Пашки. Потом я услышал сзади шорох, обернулся и увидел бледную Стеллу, услышал ее шепот:
— Это ужасно! Это не он. Я не могу. Мне страшно.
Она закрыла лицо руками и выскользнула из палаты. Хорошо, что Димка еще не успел ее заметить.
Первый взял себя в руки Пашка. Он воскликнул:
— Здорово, чиж! — называя Диму старым школьным прозвищем и стараясь, чтобы голос звучал как можно бодрей.
Но Пашкин голос был какой-то деланный, слишком веселый, а это знакомое нам слова «чиж» ужалило нас всех, как оса. Мы притихли. Все хорошие и благородные слова, которые так легко говорились в письмах, куда-то исчезли. Мы словно онемели. Это и нас и его, как видно, мучило.
«Как же он будет жить?.. Как же мы будем с ним разговаривать, приходить к нему?..» — пронеслось в мыслях. Никто из нас не знал, что сказать. Мы растерялись, прятались за спины друг друга.
И в это время, расталкивая нас, кто-то быстрыми, легкими шагами прошел, нет, не прошел, а пробежал от двери к постели. И мы увидели маленькую, худощавую черноволосую женщину…
— Димушка! Сынок мой родной… Жив!.. Сыночек! — услышали мы голос, полный счастья.
Мать опустилась на колени у изголовья Димы, ласкала его изувеченное лицо, гладила волосы, целовала глаза, приговаривая:
— Жив, жив!.. Димушка мой, мальчик мой!..
Ни одним словом, ни одним движением не выдала она своей материнской боли.
Она не замечала ни нас, ни доктора, ни Марьи Антоновны. Счастливо и нежно шептала:
— А у нас комната теперь новая, светлая, воздуха много, тебе понравится… Радио проведем. Цветы поставим на окошко… Товарищи к тебе приходить будут… Пирожок я вам в воскресенье испеку с грибами и рисом…
И все гладила и гладила маленькими, исколотыми иглой ладонями голову Димы.
— Мама,— смущенно и радостно шептал Димка,— маме… Ну, что ты меня… как маленького… Мамка, ну брось!.. Тут люди…
Мы не могли отвести глаз от этих двух голов, лежащих рядом на подушке,— от светлой, пересеченной шрамами головы Димы и от темноволосой головы его матери. Каждый из нас вдруг вспомнил свою мать, свою хлопотливую, усталую, порой ворчливую мать — ту, которую мы так часто огорчаем, о которой порой так мало заботимся, ту, которая нас выносила, выходила и с колыбели согревала своей бескорыстной лаской.
И в душах наших поднимались большие, яркие, не изведанные доселе нами чувства.
1944 г.

 Э. Че Гевара:
Мое поражение не будет означать, что нельзя было победить. Многие потерпели поражение, стараясь достичь вершины Эвереста, и в конце концов Эверест был побежден
Э. Че Гевара:
Мое поражение не будет означать, что нельзя было победить. Многие потерпели поражение, стараясь достичь вершины Эвереста, и в конце концов Эверест был побежден