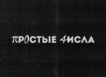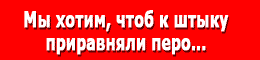А.И.Герцен. «Разговоры с детьми»
Татьяна Васильева
Пустые страхи и вымыслы
Желание узнать причины, как что делается возле нас, совершенно естественно человеку в каждый возраст. Это всякий испытал на себе. Кому не приходило в голову в ребячестве, отчего дождь идет, отчего трава растет, отчего иногда месяца бывает полный, а иногда видна одна закраинка его, отчего рыба в воде может жить, а кошка не может?.. Людям так свойственно добираться до причины всего, что делается около них, что они лучше любят выдумывать вздорную причину, когда настоящей не знают, чем оставить ее в покое и не заниматься ею.
Такого любопытства — знать, что и как делается, — звери не имеют. Зверь бегает по полю, ест, коли что попадется по вкусу, но никогда не подумает, почему он бегает и отчего он может бегать, откуда взялся съестной припас, который он ест. А люди всем этим заботятся.
Посмотрите, что из этого выходит: чем больше вещей человек знает и чем короче, подробнее он их знает, тем больше у него власти над ними. Звери с их умом несовершенным и маленькие дети с их незнанием всего слабее и беспомощнее. Не думайте, что дети только потому слабы, что они малы, — слон при всем своем росте сделает не больше ребенка во всех тех случаях, где нельзя взять ни массой, ни мышцами.
Когда человек хочет что-нибудь сделать, он прежде должен знать свойства вещей, из которых ему приходится что-нибудь сделать. Вещи сами по себе очень послушны, но слушаются они человека и настолько исполняют его волю, насколько он умеет приказывать им, т. е. насколько он их знает.
Вещи не в самом деле слушаются человека или противудействуют ему. Это так говорится для краткости, вещам до человека дела нет, они очень равнодушны к своей судьбе и продолжают существовать — рудою, слитком, червонцем, кольцом на пальце, как случится, у них нет ни цели, ни намерения, ни воли. Река течет, — течет потому, что земля поката, а не потому, что ей хочется течь. Человек ставит плотину — так как воде все равно, то она перестает течь и накапливается. Насколько человек знает силу воды, силу плотины, вышину берегов и другие условия, настолько он может заставлять воду, делая свое дело, исполнять его волю: вертеть колеса, пилить бревна, орошать луга, подымать барки. Из этого вы уж видите, что мы настолько умеем управлять природой или вещами, нас окружающими, насколько их знаем, направляя одни против других или соединяя их по их свойствам.
Вы хотите отрезать сучок от дерева и сделать из него трость. Вы берете нож, т. е. кусок железа, таким образом сплавленный, выкованный, отточенный, что одна сторона его остра, и начинаете отрезывать, зная, что растительные волокна не могут удержаться против железа.
Таким точно образом человек поступает и в самых сложных своих делах, в хлебопашестве и других работах.
Совсем напротив — чего мы не знаем, то не только не нашей воле, но скорее мы в его воле, оно нас теснит. Люди по большей части боятся того, чего не знают, потому что от него трудно защищаться.
Вот тут-то и случается, что люди лучше выдумывают ложную, мнимую причину, чем остаются в безоружном неведении. Принимая ложную причину за знание, за понимание, веря ей, они обманывают себя и думают, что овладели страшным явлением.
Возьмемте для примера грозу и посмотрим, в каком отношении к грозе находились люди в младенческом состоянии и в какое перешли в более образованном.
Люди были поражены блеском молнии, раскатом грома, они видели зажженные деревья, убитый скот, убитых людей и потом снова прежнюю тишину, тучи проходили, небо разъяснялось. Вместо того чтоб добираться до причины, сличать, обдумывать, они вот как рассуждали: «Мы слышали треск и гром — стало быть, кто-нибудь гремит», и они стали искать (тут-то вся ошибка) не что гремит, а виновэтого. Гремит наверху, молния падает сверху, стало быть, громовержец живет наверху. Черные тучи, мрачное небо показывают, что он сердится; на кого? Конечно, всего больше на тех, кого убивает.
Что же делать и как умилостивить этого свирепого громовержца? Унижением, бросаясь на колени, моля о пощаде. Так люди делали тысячелетия, и им в голову не приходило, что громовержец бьет бессмысленно скалы и деревья, которые не могут быть виноватыми, баранов и волов, мирно пасущихся, и из людей убивает не худших, а так, кто попадется; это объясняли тем, что громовержец делает это для острастки, чтобы виновные трепетали, а прочие знали бы его мощь. И эдакого-то бессмысленного и безжалостного чудака хотят умолить красными словами, поклонами, взятками. А все это делается только для того, чтоб заглушить страх перед неизвестной опасностью.
Помните вы греческое вероисповедание, у них на все был свой Бука или своя Баба-яга: для моря и огня, для неба и земли. И серьезные, взрослые люди, полководцы, купцы, отправляясь в море, ходили перетолковать об этом с медной куклой, делали ей обещание принести в жертву кур и телят, повесить в ее храме свое платье, если кукла пошлет хорошую погоду во время плавания.
Мы смеемся над их морским богом, разъезжающим в раковине на четверке дельфинов, с трезубцем в руке , так, как вы смеетесь над куклами, с которыми вы бывало разговаривали, как с живыми, укладывали их спать, давали им лекарства, —.ведь вам и тогда чувствовалось, что они не живые, да хотелось верить, вы и верили. Но мало-помалу ваш ум крепнул, и по мере того как он стал брать верх над детским воображением, вам меньше и меньше казалось вероятным, что кукла больна или спит. Так жили целые народы — до тех пор, пока знание природы не победило их мечтание об ней.
Когда люди приобрели больше опытности и сведений о природе они пошли и в деле грома и молнии иным путем; вместо того чтоб спрашивать, кто гремит, стали наблюдать, что гремит, и мало-помалу, сличая разные явления, доискались до причины; а найдя ее, стали обороняться от нее уже не молитвами и коленопреклонением, не курами и свечами, принесенными на жертву, а снарядами, называемыми громоотводами.
Точно так действует знание во всех других вещах и предметах: везде освобождает оно нас от страха, а где не может освободить от зависимости, там учит нас избегать вредных действий.
Прежде чем мы пойдем дальше, я вам расскажу, как в детстве я сам освободил себя от одного из пустых страхов. У меня, по правде сказать, их было немного, однако ж не был и я совсем свободен от них. Нянюшки натолковали и мне о всяких чудесах, о том, как домовой приходит по ночам в конюшню и ездит верхом на лошадях и как кучер против этого в стойле держит козла. Лет двенадцати я стал с ними спорить, и, разумеется, разубедить их не мог.
Бедные люди эти обречены на темную жизнь неведения и тяжкую работу — им недосуг учиться, недосуг думать, их досугом пользуемся мы; и если свет до них не доходит, то мы не должны забывать, что мы им застим его. А осуждать их — большое преступление; к тому же гораздо удивительнее, что люди ученые и образованные рассуждают иной раз не лучше их и что большая часть их верит в такого или другого домового и имеет в конюшне или дома своего козла против него.
Мне было лет двенадцать, жили мы летом в деревне. За нашим домом был овраг, заросший сосняком и ельником, овраг этот шел, огибая поля, к двум-трем курганам, тоже покрытым большим сосновым лесом. Курганы эти, вероятно, были насыпаны над могилами падших воинов в древние времена.
Там раза два отрывали совсем перержавевшие доспехи, в преданиях у крестьян осталось темное воспоминание какого-то сражения. Курганы эти они звали «проклятыми». Неохотно ходили туда ночью мужики; про женщин и говорить нечего, ни одна ни за что на свете не пошла бы туда после сумерек — не оттого чтоб они боялись волков — это было бы естественно, а оттого, что боялись каких-то духов.
Дворовые люди наши, разумеется, не меньше их верили в эти чудеса. Я спорил с ними, смеялся над их трусостью.
— Да вы вместо того чтоб говорить, — сказал мне один из них, — сами бы ночью сходили.
— Я охотно пойду.
— Когда?
— Сегодня, когда у нас все улягутся…
— А как же знать, до которых мест вы дойдете?
— У большой сосны возле первого кургана лежит лошадиный череп.
— Помню.
— Ну так я принесу его.
Пространство, которое мне приходилось пройти, вряд было ли всего больше полутора или двух верст, из которых половина шла полем. Пока было видно освещенное окно нашего дома и я не покидал тропинки, я шел себе спокойно, попевая песни для большей храбрости, но когда взошел в лес, мне тоже стало очень страшно. Чего мне было страшно, не знаю; но сердце билось и ноги так неверно ступали, когда я цеплялся за сучья, что в ту же пору хоть бы и воротиться. Но я переломил свой страх, дошел до черепа, взял его на палку и побежал домой.
Человек наш хотя и похвалил меня, но все же не убедился, а говорил мне, что «иногда и ничего не бывает, а иногда и бывает».
На другую, на третью ночь я уже ходил туда без всякого постороннего повода, и сердце билось меньше и меньше, и я уже не пугался, зацепляясь за хвойные ветви. Вот как проходят пустые страхи.
Но чего же собственно наши люди и крестьяне боялись на курганах? Того, чего люди обыкновенно боятся в присутствии мертвого тела, на кладбище. Они боятся, что покойник не в самом деле умер, а что он раздвоился как-то — тело само по себе, а жизнь этого тела сама по себе. Этого-то люди и боятся, по инстинкту понимая, что в этом есть что-то нелепое. А то чего же бы бояться? Люди сами хотят жить после смерти, скорбят и оплакивают, когда кто-нибудь умрет, — стало быть, следовало бы радоваться, что духи усопших уцелели и являются к нам!
Дух без тела страшен невообразимой нелепостью своей; до того страшен, что человек обыкновенно придумывает ему или чудовищное тело, или неестественно красивое.
Вы, верно, видали изображение длинных, исхудалых, завернутых в белые саваны мертвецов, с дырами вместо глаз. Видали вы, верно, также и маленькие кудрявые головки, нарисованные без туловища с двумя-четырьмя крылышками, прикрепленными к задней стороне нижней челюсти или к первому шейному позвонку. Само собою разумеется, что ни скелет в холстине, ни голова без груди, необходимой для дыхания, и без живота, необходимого для пищеварения, не только не могут понимать и говорить, но просто не могут жить. Несмотря на то, людям легче воображать эти нелепости, чем живой дух, т. е. живой воздух, газообразную личность без всяких жидких и густых частей. Это до такой степени нелепо, что человек отпрядывает от бестелесного духа к уродливым вымыслам.
На это, пожалуй, вам скажут, что духи могут иметь воздушное или эфирное тело, не зримое нашими глазами, тонкое, легкое и прозрачное.
На земной планете таких нет, а если б они где-нибудь и были, то с умершими людьми они ничего общего не имеют. К тому же не думайте, что в самом деле прозрачность и воздушность — что-нибудь высшее. Если б человек мог сделаться жиже, еще жиже и наконец совсем прозрачным, он от этого стал бы только хуже. Хорошая кровь густа, и хороший мозг густ, хорошие мускулы упруги, воздушные мускулы не могли бы служить; газовым мозгом нельзя было бы думать.
Невидимых для простого глаза животных бездна — все наливчатые животные ; но они, хотя и малы, не состоят же из одного воздуха или из одной жидкости; у них есть свои оболочки, очень тонкие, но которые оставляют после себя известку или мел. Их прозрачность сопряжена с самой бедной степенью жизни; для того чтоб жизнь мухи или осы была возможна, телу животному надобно было очень много погустеть, потерять своей прозрачности и местами окрепнуть, как крылья жука или ноги кузнечика.
Тело всякого животного — червя, слона, человека — делается из окружающих припасов едой и дыханием. На это ему нужны части твердые, жидкие и воздухообразные. Пока они вместе работают и ни одна не берет верха, жизнь продолжается. Если у животного отнять твердые оболочки его, то кровь и всякая жидкость, обращающаяся в его сосудах, прольется, газы, в ней заключающиеся, испарятся, рассеются, твердые части выветрятся, засохнут, сделаются черноземом, известковой землей.
Общее дело (жизнь) твердых, жидких и воздухообразных веществ, пока они продолжают пищеварение, нельзя отделить от этих частей (т. е. от тела). Так, как нельзя линию, границу двух площадей, отделить от площадей не на чертеже, а в самом деле.
Объяснить это общее дело, задерживающее в известном виде и в известной деятельности части тела, задача трудная; но дуть к ее разрешению очевиден — физиология и химия.
Неполное знание не дает права на произвольные предположения. Мы сейчас видели, до каких нелепостей люди доходили в своем объяснении грома; повторять такие ошибки непростительно.
Вымыслы не только отдаляют пониманье, но забывают самую возможность правильно поставить вопрос; в манере спрашивать видно, что сделанный вопрос вперед решен.
Так, вопрос «Может ли душа существовать без тела?» заключает в себе целое нелепое рассуждение, предшествовавшее ему и основанное на том, что душа и тело — две разные вещи. Что сказали бы вы человеку, который бы вас спросил: «Может ли черная кошка выйти из комнаты, а черный цвет остаться?» Вы его сочли бы за сумасшедшего — а оба вопроса совершенно одинакие. Само собою разумеется, тот, кто может себе представить черный цвет, оставленный кошкой, или ласточку, которая летает без крыльев и легких, тому легко представить себе душу без тела, такое целое, которого части уничтожены… а затем почему ему и не бояться на кладбище или на кургане встречи с давно умершими, ходящими без мускулов одними костями, говорящих без языка.
Есть люди, которые без малейшего основания говорят, что души умерших отправляются на другие планеты; это понять не легче.
Как же это они подымаются в океане кислорода и селитророда, не окислившись в нем или не соединяясь с водородом, углеродом. Но душа не имеет химических свойств. Какие же? Физические? — Нет. А двигается?
Предмет, не имеющий ни физических, ни химических свойств, без формы, без качества и количества, мы называем несуществующим, т. е. ничем.
Тут прибегают обыкновенно к сравнению с электрической искрой; но электрическая искра очень богата физическими и химическими свойствами; несмотря на то, в ней нельзя предположить сознания — а ведь это главное, чего хотят в душе, отрешенной от тела.
Чтоб сознавать себя, нельзя быть ни твердым как кремень, ни жидким, как вода, ни изреженным, как воздух; надобно быть студенем или кашей, как мозг.
На первый случай, я думаю, есть о чем вам подумать и поговорить с вашими товарищами и учителями, если только они не боятся домового и не держат козла.
Библиотека comstol.info

 В.Г. Белинский:
Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, — значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус.
В.Г. Белинский:
Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, — значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус.