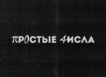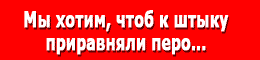Зеркало русской революции. Часть 2
Михаил Кечинов
Окончание статьи о великом русском писателе, прогрессивном мыслителе, Льве Николаевиче Толстом (часть 1)
Пристальный интерес к человеку позволил писателю создать первую в мировой литературе потрясающую правду о войне. В рассказе «Севастополь в декабре месяце» о войне и связанных с нею вопросах жизни и смерти говорится без суеты и ложной приподнятости: безукоризненно белые перчатки офицера, идущего по улице; лицо курящего матроса; госпиталь и бред женщины, у которой ампутировали обе ноги; недалекий свист ядра или бомбы… Военные подробности становятся бытовыми чертами, рождается спокойное, деловое отношение к смерти.
Такое толстовское умение писать о необычном, как об обычном; ничего не утаивать, но как бы смягчать обыденностью повествования ужас происходящего; тщательно отбирать факты и детали, сталкивая их друг с другом,— эти приемы русского классика во многом потом помогли Хемингуэю. Недаром он возил повсюду с собой «Севастопольские рассказы».
«…В рассказах о войне я стараюсь показать все стороны ее с разных точек зрения». Под этими словами американского писателя мог бы вполне подписаться Толстой.
«Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро…
Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи — успокоиться в объятиях смерти. Сколько звездочек надето, сколько снято, сколько Анн, Владимиров, сколько розовых гробов и полотняных покровов!» Эти начальные абзацы рассказа «Севастополь в мае» очень напоминают скептическое отношение Хемингуэя к первой мировой войне.
Во втором рассказе тщательно перемешивается высокое и низкое, блестящее мужество и тщеславие, подвиг и пустая ограниченность, самолюбие и сострадание. Кто злодей, кто герой этой повести? «Все хороши, и все дурны»,— говорит Толстой и заключает: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен,— правда».
Под севастопольскими звездами-бомбами родился новый герой реалистической литературы — правда, как она есть, без прикрас. Судьбу защиты Севастополя решали не аристократы, а люди иной формации, которым прежде не находилось места на страницах книг, — рядовые армейские и морские офицеры, близкие по духу солдатской и матросской массе адмиралы Корнилов и Нахимов.
Под севастопольскими редутами Толстой из прапорщиков стал подпоручиком и одновременно из начинающих писателей был «произведен» в ведущие. «…Вы начинаете так,— писал ему Некрасов,— что заставляете самых осмотрительных людей заноситься в надеждах очень далеко».
Более всего «Войну и мир» подготавливает рассказ «Севастополь в августе 1855 года». На глазах Толстого проходило большое историческое событие, его самого втягивали в «составление» истории — поручали, как литератору, написать официальную бумагу-донесение о взятии города-крепости. «Я жалею, что не списал этих донесений,— вспоминал он в послесловии к книге «Война и мир». — Это был лучший образец той наивной, необходимой военной лжи, из которой составляются описания».
Герои «Севастопольских рассказов» — это впервые введенная в художественную литературу психология настоящего солдата. Опровергая ложь войны, писатель всецело на стороне тех, кто до конца исполняет свой воинский долг, хотя и знает, что сопротивление бесполезно. Очень уж похожи эти люди, вынужденные оставить Севастополь, на победителей двенадцатого года.
Центр всей композиции содержался в конце второго очерка. По долине, усыпанной голубыми полевыми цветами и разлагающимися трупами, медленно двигается десятилетний мальчик. Закрывая лицо букетом, ребенок останавливается перед трупом и касается ногой окоченевшей руки. «Рука покачнулась и опять стала на свое место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь из крепости».
Здесь явный переход писателя от «Детства» к «Войне и миру». Но ему еще предстояло восьмилетнее восхождение до настоящего понимания человека. Будут напечатаны «Отрочество» и «Юность», будет целый ряд других — военных и мирных рассказов. Будет ссора с Тургеневым, чуть не приведшая к дуэли. Но главное, что будет,— это поиск самого себя, своего места на земле.
Он уехал за границу, но, побывав в Париже на гильотировании, навсегда потерял веру в социальную свободу и разум Запада. То было трагическое для него впечатление. «Я видел много ужасов на войне и на Кавказе,— вспоминал Лев Николаевич, — но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновенье убили сильного, свежего, здорового человека… А толпа отвратительная, отец, который толкует дочери, каким искусным удобным механизмом это делается, и т. п.»
От пережитого в Париже ужаса Толстой хочет спастись в тех местах, которые любил Руссо. Он изъездил и исходил места вокруг Женевского озера, бродил по Альпам, по которым в молодости прошел Руссо, как бы проверял его восприятие. Прекрасны и печальны путевые записки писателя по Швейцарии.
Пейзажи Толстого не сходились с пейзажами Руссо. Отсюда, с берегов Женевского озера, русский писатель увозил теплые мысли о родной своей деревне Ясная Поляна, считая ее единственно достойным на этой планете миром, хотя тоже понемногу разрушаемым цивилизацией. Он спешил домой, мечтая учить крестьянских детей грамоте и учиться у них самовыражению.
Он уговаривает приятеля своего Фета, в стихах которого более всего ценит самостоятельность художественного мышления, поскорее купить недалеко от Ясной имение и жить в деревне. Рассказывает ему о только что прочитанном романе Тургенева «Накануне», замечая, что не стоило бы писать «таким людям, которым грустно и которые не знают хорошенько, чего хотят от жизни».
— Другое теперь нужно, — говорит Толстой. — …Нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немножно тому, что мы знаем.
Во флигеле разрушенного дома, где четверть века назад он читал отцу пушкинские стихи, открылась школа. В радостях и весельях, в скорых успехах крестьянские дети так сблизились со Львом Николаевичем, «как вар с дратвой» (выражение Федьки). Дети страдали без своего учителя, а учитель страдал без них, когда наступала ночь. Днем ребята были неотлучны от «своего Льва Николаевича».
Толстой написал очерк «Кому у кого учиться писать: крестьянским детям у нас или нам у крестьянских ребят». Работа эта и сегодня представляет собой один из лучших образчиков литературы по педагогике и психологии творчества. В ней описаны двое ребят. Один, Макаров, — рационалист, для которого пуще всего важна композиция вещи, чтобы не упустить главного и чтобы рассказ был ясен. Другой, Федька, — чистый художник, увлекающийся подробностями, которые ощущает совершенно свободно. Семка Макаров норовит сунуть в рассказ точные подробности, обрисовывавшие «только минуту настоящего, без связи к общему чувству повести». Он натуралист, но высокого класса. Федька же берет такие подробности, в которых жизнь не столько описана, сколь случайно подсмотрена. Он, например, говорит, что кум одет в бабью шубенку.
— Почему же именно в бабью?— спрашивает Толстой.
— Так похоже, — отвечает Федька и не позволяет ничего переделывать в своем сочинении.
«Человек родится совершенным, — есть великое слово, сказанное Руссо… — заканчивает очерк писатель. — Родившись, человек представляет собой первообраз гармонии, правды, красоты и добра».
Побывав вскоре опять за границей, Толстой в веймарской школе с удовольствием наблюдал, как дети писали сочинение на свободную тему. Он много думал в те дни о том, как сделать более свободным течение мысли. Дети научили его речь своих героев строить как выражение непроизвольного, естественного движения мыслей и чувств. Так он тогда работал над «Казаками», находя подтверждение своим педагогическим находкам в чтении «Илиады» и «Одиссеи».
Человека не надо насильно переделывать, рассуждает Толстой. Не надо совать ему книги, родившиеся не из жизни, а из других книг. Нельзя перевозить Федьку или Семку в город, чтобы они становились половыми, банщиками или лакеями. Надо писать для них так, как старец Гомер. Если уж он говорит, что герой его сел в лодку, то тут же расскажет вам, что это за лодка, как сделана, а не будет говорить туманными намеками и разводить непонятную никому грусть.
В «Казаках» ощущалась несомненная связь с «Цыганами» Пушкина, а Оленин, конечно, был новым вариантом Алеко. Но Толстой преодолевает традицию кавказской романтики. Правда, роман не был завершен именно потому, что начат был умозрительно, рационально, по плану, как работал Семка Макаров. «Чистый художник» Федька пока еще не был превзойден своим учителем.
Во вторую свою поездку за границу писатель посетил в Лондоне Герцена, к которому относился с большим уважением и часто вспоминал такие его слова: «Когда бы люди захотели вместо того, чтобы спасать мир, спасать себя, вместо того, чтобы освобождать человечество, себя освобождать — как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человечества».
В то время Герцен переиздал статью, которая так и называлась— «Война и мир». Зацепка в памяти Толстого произошла тем более, что статья посвящалась царизму, будущим войнам, вождям и народу, общему сознанию, определяющему историю…
Вернувшись в Ясную, Лев Николаевич с радостью окунулся в жизнь школы. В небольших розовых и голубых комнатах он негромко, приятно и просто рассказывал детям о том, как отбили в 1812 году француза, как защищали на Черном море русский город Севастополь простые крестьяне, одетые в черные бушлаты и серые шинели.
— Погоди же ты, — прервал рассказ учителя некий Петька, потрясая кулаками, — дай я вырасту, я же им задам!
«Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Малахов курган, мы бы его отбили»,— вспоминает писатель урок истинного патриотизма. Не он ли, этот урок, воспитывающий в Толстом истинное понимание людей из народа, окончательно приблизил его к «Войне и миру».
Пятьдесят лет прожил Лев Толстой в Ясной Поляне. Подсчитано, что только в седле провел он тут семь лет. Рядом с воротами усадьбы проходила широкая езжая и пешеходная дорога, по которой когда-то проезжал в изгнание Пушкин. Сколько переходил этой дорогой Лев Николаевич, сколько людей перевидел, сколько новых судеб постиг.
Он как бы доставал что-то глубокое в душе каждого нового встречного. С годами его серые глубоко запрятанные глаза, полные жизни и энергии настолько привыкли к незнакомым людям, что писателю казалось, будто он их уже видел: они подходили под знакомые ему типы.
Стремление начать жизнь сызнова не покидало его до самого последнего ухода из Ясной Поляны Кто-то из современных ему писателей отозвался о нем однажды так:
— Как это у Жюля Верна? «Восемьдесят тысяч километров под водой»? …Про Толстого можно сказать нечто подобное: восемьдесят тысяч верст вокруг себя.
Восемьдесят тысяч километров вокруг себя он проделал только для того, чтобы иметь возможность приступить к созданию своей главной книги. В действительности же за свою долгую жизнь он, наверное, пробежал вокруг себя расстояние раз в сто большее.
Замечена характерная особенность толстовской мысли: пробиваясь к сути предмета, она, как маленький зверек, зорко стережет момент собственной усталости или довольства достигнутым. Как только появляется даже слабый намек на ослабевание творческого поиска, писатель начинает очередной виток вокруг себя.
Вот и получилось, что в восприятии «Войны и мира» для нас главное «не столько дух эпохи, сколько личный гений автора; что мы удовлетворены не «веянием» места и времени, а своеобразным, ни на что (во всецелости) не похожим смелым творчеством нашего современника».
Так писали о «Войне и мире» при жизни ее создателя, считая, что Толстой коренным образом развил и переработал в вековые, гигантские деревья те зерна, которым дал рост Пушкин.
Надо сказать, что первые критики романа-эпопеи не ошибались. За сто прошедших лет толстовское доверие к жизни «как она есть», его стремление промыть людям глаза, обострить их духовную зоркость к природной сущности явлений увеличило число его почитателей и последователей во всем мире. Такие известные сегодня произведения о войне и мире, как роман Хемингуэя «По ком звонит колокол», как повести «Пастух и пастушка» Виктора Астафьева и «Живи и помни» Валентина Распутина, — одни меньше, другие больше— эмоционально организованы не без влияния Толстого.
«Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе». Этот эпиграф Джона Донна, выбранный Хемингуэем к своему роману, как пасторальное, робкое чувство любви на фоне жестокой войны, открытое Астафьевым, или неоднозначная судьба дезертира Гуськова и самопожертвование прекрасной, чисто русской женщины Настены в повести «Живи и помни» — музыка, гармонические образы- видения. Эмоциональная режиссура в каждом из этих произведений по-своему работает в согласии с теми или иными художественными идеями «Войны и мира».
Для меня лично созвучие заключено в музыкальном видении Пети Ростова, дремавшего в отряде Денисова на казачьем фургоне. Он слышал «стройный хор музыки» и дирижировал ею во сне. «…Каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно в опять разбегались…»
В ту же ночь спящий возле костра Пьер Безухов видит во сне поверхность шара, состоящую из капель, плотно сжатых между собой. «Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.
— Вот жизнь, — сказал старичок-учитель».
Приснившиеся Пьеру глобус и старичок-учитель породили у него с утра радость музыкального согласия с миром, ту радость, которую испытывал у Хемингуэя антифашист Роберт Джордан, у Астафьева— лейтенант Борис Костяев и которой начисто лишил себя распутинский Гуськов. Роберт Джордан и Борис Костяев в конце концов погибают, а Петя Ростов на другой день после своего сновидения будет убит. Останется жить, так и не испытав гармонии с миром, дезертир Гуськов.
Такие вот выходы толстовской эпопеи в современную литературу о войне и мире.
«Восемьдесят тысяч верст вокруг себя». Нет, не только вокруг себя, как заметил Бунин, но и вокруг всего на свете. Иначе бы не было ни «Войны я мира», ни «Воскресения», ни «Хаджи-Мурата» — шедевров, без которых не может сегодня существовать мировая литература.

 Х. Марти:
Самая трудная профессия — быть человеком.
Х. Марти:
Самая трудная профессия — быть человеком.