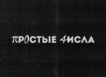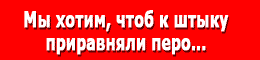Сыновний долг
Олег Комолов
Публикуем рассказ специального корреспондента «Комсомольской правды», члена Союза журналистов СССР с 1959 года В. Бендеровой, написанный в 1964 году.
Настоящим современным человеком все считали Сережку Алимарина. Некоторым, правда, нравился Андрей Максимов. Оба они были способные, запоем читали, оба считались хорошими комсомольцами. Сережка видел себя только химиком и деятельно готовился к этому; Андрею казалось прозой все, кроме геологии.
Подлинно яркой личностью был, безусловно, Сережка. Если он работал, всем вокруг хотелось работать: так энергично, горячо брался он за дело. Если отдыхал, всюду, где он появлялся, вспыхивал заразительный искристый хохот: Сережка отличался остроумием, красноречием, умел подмечать все смешное.
И вдруг все перевернулось. Андрей со своим «тихим» характером затмил «яркую личность», завоевал глубокое уважение товарищей.
Однажды вечером я проходила мимо их дома. На углу, шагах в двадцати перед собой, я увидела Андрея: он быстро шел навстречу тоненькой белокурой женщине и смотрел ей в лицо сияющими глазами. Только тут я заметила: та, к которой он спешил,— не белокурая, а седая, у нее усталое лицо и такие же, как у Андрея, ласковые синие глаза. Это его мать!
Каждый день он бежал к трамваю ей навстречу, чтобы взять покупки из рук, сказать ласковое слово, проводить домой.
Когда я вошла в их квартиру, Андрей хлопотал на кухне. В другой раз я застала его в маленьком их дворике, под окном. Андрей собирался уезжать на все лето. Он знал, что матери будет тоскливо без него долгими вечерами, и хотел сделать ей приятное — посадить цветы. Андрей был далеко, когда под окном его матери распустилась гвоздика, зацвел табак, астры потянулись вверх, набирая бутоны.
А какой дома Сергей? И однажды мы отправились к нему домой.
На стук отозвался чей-то голос. Мы открыли дверь и растерялись: свет не горел, открытое окно стучало на ветру, пропуская брызги дождя. Тот же голос попросил повернуть выключатель. На кровати мы увидели женщину с еще не старым, но очень бледным, измученным лицом.
Это была Мария Петровна, мать Сергея. Болезнь парализовала ее, приковала к постели, вот уже много лет не дает подняться на ноги. Сергей еще засветло отправился в кино и забыл о том, что придет вечер и мать останется одна, в темноте, что открыто окно и на столике нет воды…
Мария Петровна говорила сначала спокойно, потом все более волнуясь. Она чувствует себя временами такой ненужной, такой липшей. Она не помнит, чтобы сын подошел к ней с приветливым словом, уступил в чем-нибудь, ответил мягко, а не огрызнулся. В лучшем случае он не обращает внимания на больную. Но обычное занятие шестнадцатилетнего комсомольца — изводить мать.
— Господи, умереть — и то легче,— вырывалось не однажды у доведенной до отчаяния женщины.
— Ну и освободила бы место,— «шутил».
Первое лицо, которое склонилось над ребёнком,— лицо матери. Первое слово, которое он по- своему, по-детски, произнес, — слово «мама». Это слово слетает с губ в час опасности и в последнюю минуту жизни.
Мама… Бесконечно близкий человек, которому ничего не жаль для тебя: ни сил, ни жизни. Она мучается, страдает, когда ребенку плохо, расцветает, если видит радость на его лице. В минуту опасности мать не вспомнит о себе. Она кинется к своему ребенку, заслонит его собой.
Сколько людей запомнили думу о матери Олега Кошевого из «Молодой гвардии».
«…Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он уже не отходил и зимой, — он был такой, нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть, они были и грубее руки твои, — ведь им столько выпало работы в жизни,— но они всегда казались мне такими нежными, и я так любил целовать их прямо в темные жилочки».
«Дорогая мамочка! — писал Ленин матери из эмиграции.— На днях писал тебе по поводу ареста Маняши и Анюты. Хочется поговорить еще. Боюсь, Что ты слишком одиноко теперь себя чувствуешь…
Пожалуйста, черкни мне несколько слов, моя дорогая, чтобы знать, здорова ли ты и как себя чувствуешь,— есть ли какие новости; есть ли знакомые у тебя в Саратове. Может быть, при более частой переписке ты будешь чувствовать себя все же несколько менее тоскливо…»
Сраженный тяжелым недугом, Николай Островский не мог читать письма из дому, видеть знакомый почерк матери.
«Милая мама! Все твои письма мне прочли. Очень рад, что доставил тебе хотя малую радость. Я хочу с тобой серьезно поговорить. Я прошу тебя, моя родная, очень прошу и даже требую, чтобы ты не несла никакой тяжелой работы. Повторяю — никакой тяжелой работы… Самое главное — береги себя. Все остальное ничто по сравнению с твоим здоровьем».
Нет преступления горше, чем измена матери, отцу. В сутолоке дней не забывайте, что где-то рядом или далеко живут самые близкие вам люди, они думают о вас с первой минуты вашего появления на свет, они ждут вас, вашей помощи, ласки, близости.
Может быть, в ящике у вас завалялось незаконченное письмо домой. Может быть, вы так и не собрались сделать к празднику подарок отцу и матери, обидели, оттолкнули, унизили их, забыли, что им нужна ваша поддержка, которой они вправе ждать. Может быть, вам не пришло в голову почитать матери, а ей уже плохо служат глаза, или вы не догадались повести родителей в театр, кино, поговорить с ними по душам, сделать все, чтобы светла и спокойна была осень их жизни. Помните об этих ненаписанных письмах, несказанных словах, о долге перед самыми близкими людьми.
Неоплатен этот долг сердца. Каждый, кто знает счастье иметь отца и мать, пусть бережет это счастье, как драгоценный дар жизни.

 Н.К. Крупская:
Ложь — плохая помощница в жизни.
Н.К. Крупская:
Ложь — плохая помощница в жизни.